(Не замай)
Не печалься, мой свет.
(Не скуч.)
Кручину покинь
И всегда то думай, что ты щастлива.
1-е колено
![]()
![]()
![]()
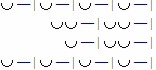
![]()
2-е колено
![]()
![]()
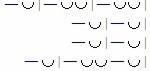
![]()
Наслаждаетце. Забавляетце,
6
ЛОМОНОСОВ И ФОЛЬКЛОР
Ломоносовские юбилейные торжества 1936 и 1940 гг. представляют, несомненно, поворотный пункт в наших изучениях и оценках деятельности великого русского ученого и поэта. И хотя собственно новых материалов эти юбилеи принесли мало, но уже одно появление передовой статьи в „Правде“ (18. XI. 1936) „Гениальный сын великого русского народа“ было событием большого общественного и научного значения. Среди прочих сторон творчества Ломоносова статья „Правды“ отмечала любовь поэта к народному слову и народной поэзии. „Знакомство с языком народных масс, любовь к героическому прошлому русского народа, к его поэзии, неразрывная с любовью к родине, открыли перед Ломоносовым, как впоследствии перед Пушкиным, источники подлинно народной и поэтому подлинно великой литературы“.
Но именно вопрос об отношении Ломоносова к народной поэзии, народному творчеству абсолютно не был затронут во всей громадной литературе о великом ученом и поэте. Даже А. Н. Пыпин в своей „Истории русской этнографии“, многократно упоминая о Ломоносове, ни слова не сказал по данному вопросу. Обошел молчанием эту тему и Ю. М. Соколов в историографической части своего учебника.
Нельзя, однако, сказать, чтобы материалов об отношениях Ломоносова к народной словесности не было. Они существуют, но не привлекали до сих пор должного внимания. Можно даже сказать больше: дошедшие до нас материалы имеют значение более широкое, — они по-новому освещают ряд вопросов, связанных с изучением фольклора в XVIII в.
Знал ли Ломоносов народную поэзию? Уже одно то, что он происходил из Архангельщины, края сказок и былин, края сказителей и народных художников, заставляет предполагать это знакомство. Но есть и непосредственные факты, подтверждающие широкую осведомленность Ломоносова в области народной поэзии. При этом данные, которыми мы располагаем, идут из очень ранних лет его литературно-научной деятельности и характеризуют его знание различных жанров народной словесности и отношение к последним.
В самом начале 1736 г., в первый месяц своего пребывания в Петербурге, Ломоносов приобрел незадолго до того вышедший „Новый и краткий способ к сложению российских стихов“ Тредиаковского. Книгу эту Ломоносов подверг внимательному и, вероятно, длительному изучению, покрыв многие страницы своими замечаниями и исправлениями. Сохранившийся в Архиве Академии Наук ломоносовский экземпляр книги Тредиаковского представляет драгоценный источник для выяснения литературной и языковой позиции Ломоносова в конце 1730-х годов.1
Упомянутый экземпляр „Нового и краткого способа к сложению российских стихов“ сохранил также первые свидетельства о знакомстве Ломоносова с народными песнями и вообще с устной словесностью. Такова, например, пометка против пункта X раздела „О вольности, в сложении стиха употребляемой“ (стр. 18; А. А. Куник. Сборник материалов для истории Академии Наук в XVIII веке, ч. I, СПб. 1865, стр. 32). В этом пункте Тредиаковский утверждает, что „ежели материя будет не важная и шутошная, то не не красно положатся прилагательные с своими существительными, в особливой поэзии (но весьма долготою и краткостью слогов мерной) у нашего простого народа употребляемые, например: , бел шатер и прочие премногие подобные“.2 Сделанная на полях приписка Ломоносова говорит, повидимому, о согласии с мыслью Тредиаковского и представляет ее развитие; она состоит из двух выражений, взятых из былин и из лирических песен: калена стрела, .
Большой интерес представляет другая запись Ломоносова, также связанная с вопросами фольклора и находящаяся в том же экземпляре трактата Тредиаковского. Запись эта, состоящая из двух пометок, находится в ответственнейшем месте „Нового и краткого способа“, там, где Тредиаковский говорит о своей зависимости от устной словесности. „Пусть отныне перестанут противно думающие, — пишет своим вычурным слогом Тредиаковский, — думать противно: ибо, поистинне, всю я силу взял сего нового Стихотворения из самых внутренностей свойства, нашему стиху приличного; и буде желается знать, но мне надлежит объявить, то поэзия нашего простого народа к сему меня довела“ (стр. 24; Куник, стр. 36). Против этих слов Ломоносов написал свой несколько резкий отзыв о половинчатой, искажающей подлинную тоничность народной поэзии „реформе“ Тредиаковского. В этом отзыве Ломоносов отрицает непосредственную связь системы Тредиаковского с существом народной поэзии („с внутренностями свойства, нашему стиху приличного“).
Каламбурно используя значение слова „внутренности“, Ломоносов возражает против приведенного выше признания Тредиаковского: „Это правда, — пишет он, как бы подставляя новый текст после слов Тредиаковского о том, откуда тот „взял“ свою систему, — из тово, что сквозь внутренности проходит...“ Впрочем, справедливость требует того, чтобы была отмечена и первоначальная, более ранняя, исправленная поздне́е запись Ломоносова: „Это правда, что стих из внутренности происходит“. Таким образом, можно констатировать два момента в данной Ломоносовым оценке системы Тредиаковского: первый, когда Ломоносов соглашался с тезисом автора трактата; второй, когда он иронически отнесся к декларации Тредиаковского. Именно к этому времени следует отнести вторую помету Ломоносова на этой же странице, состоящую в двух начальных стихах народной песни:
̂от,
За собою мать черна быка ведîот.
Так как разыскать в существующих сборниках народных песен этот текст мне не удалось, я обратился к члену-корреспонденту Академии Наук В. И. Чернышеву, располагающему превосходной „песенной“ картотекой. По любезному указанию В. И. Чернышева,3 действительно, такая песня в научной литературе не зарегистрирована. Более или менее близким отголоском той песни, на которую сослался Ломоносов, можно считать текст, напечатанный в „Великорусских народных песнях“ А. И. Соболевского:
Вдоль по улице мятелица мятет,
А сударушка черна быка ведет,
Черного быка с лысиною.
Привела быка к широкому двору,
Сама вскрикнула громким голосом:
— Ах, мать моя, матушка,
А ты, мать, государыня моя,
Уж где мне быка привязать,
Уж где мне черного привязать?
— Привяжи к частоколинке,
Трухни, трухни сенной.
— „Ах, трухнула бы те, матушка,
Лихорадка с болестью,
Черная немочь с лихостью.
Ведь мой бык не соломистый.
Моему бы быку скляница вина,
На закуску пирога с творогом,
На заедку щей с чесноком“.
94; Песенник, 1791, ч. II, стр. 73).
Цитированная песня представляет, по мнению В. И. Чернышева, более цензурную перестройку той песни, которую привел Ломоносов и в которой действующими лицами являются игуменья и при ней черный бык, эвфемистическая замена слова „монах“. Еще более невинную переработку данной темы, но со сходным напевом („Вдоль по улице мятелица мятет“) представляет публикация в т. IV „Великорусских народных песен“ Соболевского (стр. 329, № 423).
К этим указаниям В. И. Чернышева следует добавить, что у Соболевского (т. V, стр. 265—268, № 343—344) зарегистрированы две песни, с зачином, близким к ломоносовской записи:
По загуменью тропиночка лежит,
По тропиночке детинушка бежит,
—267, № 343;
Песенник, 1791, ч. I, 113).
По загуменью-гуменью,
По загуменью тропинушка лежит.
По тропинушке детинушка бежит.
—268, № 344;
Молодчик с молодкою, 1790, стр. 36).
Приведенные материалы показывают, что песня, на которую сослался Ломоносов в своей записи, относилась, очевидно, к разряду сатирически-антимонашеских (на это именно намекают первые две строчки и этим-то и объясняется ее отсутствие в печатных сборниках). Таким образом, в сочетании с приведенной выше записью о связи теории Тредиаковского с „внутренностями“ ссылка на песню об „игуменье и черном быке“ показывала невысокое мнение Ломоносова не о народной поэзии, а о предполагаемых им источниках стихотворной реформы Тредиаковского. Может быть, имеет некоторое значение, что указанная Ломоносовым песня „написана“ шестистопным хореем.
Помимо этих ранних свидетельств о знакомстве Ломоносова с народнопесенным творчеством, до нас дошли и другие, более разнообразные материалы. Так, в „Российской грамматике“ (1755) Ломоносов, говоря о повторяемости в некоторых случаях предлогов, ссылается на „простые песни“: „В просторечии, — пишет он в § 560 (Соч., изд. АН, т. IV, стр. 215), — предлоги обыкновенно повторяют перед существительным и прилагательным, а особливо в простых песнях: на горе на высокой, “. В тесной связи с этим находится еще одна черновая запись Ломоносова в материалах к „Российской грамматике“: „На Волге на реке“.4
Вспоминает Ломоносов о песнях и в „Древней Российской истории“, когда ему приходится говорить о языческом славянском олимпе. Назвав имена Лады, Диди (!) и Леля, он отмечает, что эти божества „толь усердно от древних наших предков почитались, что оттуда и поныне в любовных простых песнях, особливо на брачных празднествах, упоминаются со многим повторительным восклицанием“ (т. V, стр. 333). Тут же Ломоносов указывает, что „по деревням и поныне Коляду в плясках и песнях возглашают“ (там же, стр. 334). Несколько ниже Ломоносов излагает данные о культе воды у славян: „Древние наши предки как текущие воды боготворили, явствует, что и поныне простонародные песни от многократного именования Дунай начало свое принимают; в иных [т. е. песнях] и на всяком повороте5 “ (там же, стр. 334). В черновых записях Ломоносова сохранился материал, относящийся к только что цитированному месту и делающий мысль автора более понятной: „Наш народ у Дуная живал и реку за бога почитал. Дуная, здунайко, здунай, здунинай“ (Рукопись № 112, л. 15; Будилович. Приложения, стр. 31). Очевидно, Ломоносов имел в данном случае в виду песенные припевы типа
Здунинай, най, най;
Ах вздунай, братцы, вздунай,
(Собр. русск. нар. песен И. Прача, изд. 2, 1815, ч. II).
Как известно, в свет „Древняя Российская история“ вышла уже после смерти Ломоносова, а к работе над нею он приступил с начала 1750-х годов; повидимому, именно к этому времени, не позднее 1755—1757 гг., и должно отнести цитированные записи Ломоносова; по времени совпадают и данные из „Российской грамматики“. Таким образом, вторая, после конца 1730-х годов, группа фактов, свидетельствующих об осведомленности Ломоносова в народной поэзии, показывает, что в 1750-е годы он отнесся к народным песням как к материалу, заслуживающему серьезной научной обработки — лингвистической и исторической. По сравнению с позицией Тредиаковского, считавшего нужным приносить извинения своим читателям за ссылки на народные песни и в словах „здунай, здунинай и т. д.“ видевшего бессмысленный набор слов, это было громадным шагом вперед.
Не следует думать, что Ломоносов не видел в народной поэзии документов художественного творчества. Сохранились любопытные выписки Ломоносова из произведений народнопесенного творчества, скорее всего былин, может быть из цикла о Садко: „Насад, звончаты гусли, понизовной, низовской, не думал, не гадал, на што прелстилась. Из рук кормит, возкручинился... Светлица... Живот надрывать...“ (Рукопись № 112, л. 23; Будилович 112 имеется интересная страничка, из которой сделаны следующие записи:
|
(Не замай) 1-е колено |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
2-е колено |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
Наслаждаетце. Забавляетце, |
||
Что представляет собой настоящая запись? Является ли она, как предположил Будилович, „схемою скандировки русских стихов... времени, когда Ломоносов обдумывал свою „Поэзию“ (1751 г.)“,7 или же это нечто иное? Повидимому, гипотеза Будиловича не может быть признана вполне удовлетворительной. Как он правильно указал, в записи Ломоносова „отмечено два колена: 1) размеров анапестических и ямбических, 2) дактиль и хорей. Тут же можно видеть примеры на некоторые размеры, например для двустопного анапеста ![]() : „Не печалься, мой свет“; для ямба с анапестом
: „Не печалься, мой свет“; для ямба с анапестом ![]() : „Кручину покинь“; для ямба
: „Кручину покинь“; для ямба ![]() „Несчастие во век забудь“; для хорея с дактилем
„Несчастие во век забудь“; для хорея с дактилем ![]() : „Радость вечну имети“ (там же). Именно разнообразие размеров показывает, что это не опыты самого Ломоносова, почти не применявшего после возвращения из-за границы комбинированных размеров. Присмотревшись к словесным частям записи и в верхней части текста и в нижней, можно почти с уверенностью сказать, что это строки из какой-то или каких-то народных песен, а орфография „Наслаждаетце. Забавляетце“ показывает, что Ломоносов зафиксировал часть материала в диалектной форме. Таким образом, я склоняюсь к предположению, что в ломоносовской записи, которую Будилович правильно датировал 1750—1751 гг., отразилось изучение Ломоносовым метрики народных песен.
: „Радость вечну имети“ (там же). Именно разнообразие размеров показывает, что это не опыты самого Ломоносова, почти не применявшего после возвращения из-за границы комбинированных размеров. Присмотревшись к словесным частям записи и в верхней части текста и в нижней, можно почти с уверенностью сказать, что это строки из какой-то или каких-то народных песен, а орфография „Наслаждаетце. Забавляетце“ показывает, что Ломоносов зафиксировал часть материала в диалектной форме. Таким образом, я склоняюсь к предположению, что в ломоносовской записи, которую Будилович правильно датировал 1750—1751 гг., отразилось изучение Ломоносовым метрики народных песен.
Если принять во внимание, что литературный архив Ломоносова дошел до нас в жалких остатках,8 то не приходится и думать, что приведенные выписки выражений из народной поэзии и метрические схемы стоят особняком, как нечто исключительное и не характерное для Ломоносова. Скорее можно предположить, что таких материалов было значительно больше и что перед нами лишь счастливо сохранившиеся случайные осколки.
Чтобы закончить рассмотрение материалов, относящихся к изучению Ломоносовым народных песен, следует отметить еще один любопытный факт. В „Российской грамматике“, в § 567, Ломоносов, перечисляя слова, требующие после себя дательного падежа, снова приводит пример из народных песен: „исполать молодцу“ (Соч., т. IV, стр. 216). А в черновых его материалах, в Рукописи № 112 (л. 16 об.; . Приложения, стр. 21), находится такая запись: „Исполать Έισ πολλὰἒτη“ (у Ломоносова надстрочных знаков нет), т. е. Ломоносов совершенно безошибочно установил зависимость древнерусского приветствия от византийского возгласа, означающего „на многие лета“.9
Отразилось ли знакомство Ломоносова с народными песнями и изучение их в его собственном творчестве? Конечно, в поэтических произведениях Ломоносова можно найти ряд непосредственных отголосков народной поэзии; так, в поэме „Петр Великий“ слово „ветер“ дважды дано с эпитетом „буйный“ (п. I, ст. 231; п. II, ст. 387); в стихотворении „Кузнечик дорогой“ роса названа „медвяною“ (т. II, стр. 223); неоднократно встречаются у Ломоносова сочетания „солнце ясное“ (т. I, стр. 60, ст. 123; стр. 139, ст. 1; т. II, стр. 91, ст. 34; стр. 189, ст. 181), “слезы горькие“ (т. I, стр. 132, ст. 137; т. II, стр. 57, ст. 1339; стр. 131, ст. 8), „зеленый сад“ (т. II, стр. 93, ст. 95).10 Но сочетания эти с таким же правом можно считать не связанными с народными песнями, а просто взятыми из фразеологической сокровищницы русского языка, тем более, что количественно они составляют очень незначительную долю в обильном „эпитетном хозяйстве“ Ломоносова и едва ли говорят за то, что Ломоносов черпал материалы непосредственно из народной поэзии. С другой стороны, не следует полностью отказывать в правдоподобии и первой гипотезе, в особенности если вспомнить пометы Ломоносова на трактате Тредиаковского. Во всяком случае, отношение Ломоносова к народной песне можно определить как отношение ученого филолога и историка, а не как поэта, использующего художественные средства народной словесности в своей собственной творческой практике. Впрочем, надо оговориться.
В „Риторике“ (1748), говоря о „распространениях мыслей“, т. е. развитии образов, Ломоносов, касаясь „приятных... распространений слова от времени“, приводит следующий пример:
И село за горой,
И поле окропилось
Вечернею росой.
Я в горькой скуке трачу
(Соч., т. III, стр. 131).
Будилович считал приведенную цитату „началом одного идиллического стихотворения, не известного нам вполне, но, вероятно, известного в свое время, если на конце отрывка (в „Риторике“) можно было поставить „и прочая“, оборвав стихи почти на запятой“.11
М. И. Сухомлинов в комментариях к I тому „Сочинений“ Ломоносова, опираясь на замечание Будиловича, счел „нужным привести вполне стихотворение, отрывок из которого находится в Риторике“. По указанию комментатора, „оно помещено в рукописи Публичной библиотеки Q. XIV, № 124, под № 33“ и начинается словами „Молчите, струйки чисты“. Текст, приведенный Сухомлиновым, не отличается исправностью и содержит ряд явных искажений. Между тем песня „Молчите, струйки чисты“ широко известна в XVIII в., она неоднократно встречается в песенниках того времени и дошла в переделках даже до начала XX в. (под названием „Сережа пастушок“).12 Особенно хороший текст зафиксирован в чулковском „Собрании разных песен“ (ч. I, № 61, стр. 77—79; по изданию П. К. Симони — стр. 91—93).
„Риторики“ Ломоносов приводил в качестве иллюстраций отрывки исключительно лишь из своих произведений, то придется признать, что „очень популярный“ „пастушеский“ романс XVIII в. (Ю. Соколов) принадлежал Ломоносову. Если же, из осторожности, воздержаться от полного признания Ломоносова автором этой песни, то все же придется сделать заслуживающий внимания вывод, что Ломоносов считал возможным и незазорным, без извинений, как делал в таких случаях Тредиаковский, цитировать фольклорный материал. Могут возразить, что это не „простая песня“, а романс. По существу, дело от этого не меняется, — оказывается, что Ломоносов признавал литературные права не только за высокими жанрами, но и за так называемыми „бытовыми“.
Все же я склонен думать, что автором песни „Молчите, струйки чисты“ был Ломоносов. Она по настроению, стилю и языку вполне совпадает с его ранними стихотворениями эротического содержания, которые в осколках дошли до нас в „Письме о правилах российского стихотворства“ (1739); она близка по характеру и фактуре стиха к переводу из Анакреона „Ночною темнотою“, относящемуся также к началу 1740-х годов. Наконец, текст ее, воспроизведенный в чулковском песеннике, либо полностью совпадающий с протографом, либо незначительно от него отходящий, настолько литературен, что должны отпасть те справедливые опасения, какие возбуждались в Сухомлинове неисправным текстом сборника Гос. Публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина (ГПБ).
Вот этот текст в том виде, как он дан у Чулкова; в примечаниях указываются разночтения с текстом сборника ГПБ.
Молчите, струйки чисты,
И дайте мне вещать.13
Престаньте14 воспевать.
Пусть в рощах раздаются
Плачевные слова.
И стонут дерева.
Ты здесь,15 моя отрада,
Любезный пастушок,
На крутой16 бережок.
Я здесь с тобой свыкалась
От самых лет младых
Любовных17 слов твоих.
Уж солнышко спустилось
И село за горой,
Вечернею росой.
Я в горькой скуке трачу
Прохладные часы
И наедине плачу.
18 красы.
Целую те пруточки,
С которых ты срывал
Прекрасные цветочки
Слезами обливаю
Зеленые листы,
В печали презираю
Приятные плоды.19
Тебя во древесах.20
Бегу туда напрасно,
Хочу обнять21в слезах.
Меня нещастну22 льстит.
Смущаюся, теряя
Приятной мне твой вид.
23
Тихонько потрясет,
Я тотчас же кустами
Тебя ищу, мой свет.
От всякой перемены
24 я крушусь
И, муча слабы члены,
На каждый слух стремлюсь.
Рассмотрение судьбы песни „Молчите, струйки чисты“ не входит в задачи настоящей статьи. Эта тема, равно как и рассмотрение бытования в песенном репертуаре XVIII в. и более позднего времени таких ломоносовских произведений, как „Ночною темнотою“ и „Хвалу всевышнему владыке“, все это представляет материал для особой работы — „Ломоносов в русском фольклоре“.
„Древнее Российское баснословие“
Изучение народного творчества, как было показано выше, Ломоносов вел, исходя преимущественно из интересов филологических и исторических. Трудно судить, должно ли, вслед за Будиловичем, видеть в ряде ломоносовских записей, о которых будет сказано ниже, только материалы для рассуждения „о синонимах“ (цит. соч., стр. 101—102). Впрочем, и сам Будилович считал возможным признать эти записи подготовительными материалами, собранными Ломоносовым для „Древней Российской истории“. Все эти записи представляют большой интерес, и познакомиться с ними следует обстоятельнее. Вот первая из них:
„Шепты, чары-чародейство, волшебство, волхвование, чародеяние, колдовство, чернокнижие. слово, заговор. порча, знахарство, присушить. обаянство. врачебство“ (Рукопись № 112, л. 19; Будилович. Приложения, стр. 31).
„синонимов“, а перечисление „магических“ действий, разделенных на группы, объединяющие близкие по характеру термины; поэтому между некоторыми (однородными) поставлены запятые, между другими точки. Назначение этого перечня станет понятнее, если обратимся к другому, находящемуся в той же Рукописи № 112 (л. 15; Будилович. Приложения, стр. 31, текст воспроизведен здесь не вполне точно). Вот он:
„Лешей, полудница, шиликун,25 водяной, домовой, бука. нежить. кикимора. яга баба. обмены, вспометовать все их действия. Змей летает, с лешим бутто бабы живут. Русалка.
Черти живут в омутах и водоворотах.
Мы бы имели много басней, как Греки, естьли б науки в идолопоклонстве у россиян были.
У леших лева пола на верьху, тени нет.
Около вихрей с иконкою бегают. Чур.
слушать на перекрестках, домовой давит“.
Запись эта чрезвычайно важна: несомненно, часть материалов, зафиксированных в ней, Ломоносов заносил на бумагу, предполагая использовать свои „ноты“ (как он назвал эти заметки) для истории русского народа. В самом деле, как было показано выше, мысль о связи припевов о „дунае“ с давнишней славянской оседлостью на этой реке нашла выражение и в самой „Древней Российской истории“ Ломоносова. Но такие „ноты“, как „лешей, полудница, шиликун, водяной, домовой. бука. нежить. кикимора. яга баба. обмены, вспометовать всех их действия“ и, в особенности, „мы бы имели много басней, как греки, естьли б науки в идолопоклонстве у россиян были“, показывают, что Ломоносов имел в виду развить этот материал более обстоятельно, снабдить его подробностями („вспометовать“ — вспомнить, перечислить „все их действия“). Можно предположить, что эти „ноты“ делались для специальной работы о русской мифологии или, как тогда говорили, о „российском баснословии“. Кстати, „баснь“ понималась, как перевод греческого „мифа“, и ломоносовскую фразу „мы бы имели много басней, как греки“ надо читать: „имели бы много мифов“.
„мифологической работе“ Ломоносова могут возразить, что, поскольку в „Древней Российской истории“, в главе 7 (книги 1, части II), „О княжении Владимирове прежде крещения“, находятся страницы, посвященные славянской мифологии, постольку правильнее отнести все эти „ноты“ именно к ним. Сопоставляя, однако, записи Ломоносова с соответствующими страницами „Древней Российской истории“, можно установить, что не весь собранный им материал оказался использованным, что не все „ноты“, представляющие определенные тезисы, вошли в состав „мифологической“ главы, т. е. скорее можно предположить, что, отказавшись по каким-то причинам от особой, самостоятельной работы о „российском баснословии“, Ломоносов частично включил накопившиеся у него данные в свою „Историю“.
Ниже будет показано, что и в таком виде опубликованные материалы сыграли исключительно большую роль в истории русской литературы и фольклора, но, прежде чем перейти к этому, следует привести еще один документ из Рукописи № 112, также относящийся к работам Ломоносова по славянской мифологии.
Документ этот представляет параллельный список римских и соответствующих им, по представлению Ломоносова, славянских божеств, а в третьем справа столбце перечислены славянские мифологические названия, соответствия которым в римской мифологии автору не удалось найти. По сравнению с приведенным выше текстом из той же рукописи, л. 15, видно, что помещаемый ниже представляет дальнейшую обработку первого:
|
Юпитер. |
Перун. |
|
|
Юнона. |
Коляда. |
Здунай. |
|
Нептун. |
Дида |
|
|
Тритон. |
Чуды морские. |
Яга баба. |
|
Венера. |
Лада. |
|
|
Купидо — |
Леля. |
Змей летучей. |
|
Церера. |
Полудница. |
|
|
Плутон. |
Чорт. |
|
|
Прозерпина — |
Чертовка. |
|
|
Центавр — |
||
|
Марс. |
||
|
Нимфы — |
русалки. |
|
|
Фавны — |
лешие. |
|
|
— |
домовые, нежити. |
|
|
Лемур — |
бука. |
|
|
Термин — |
Чур. |
|
|
Перун. |
||
|
Juno. |
Коляда. |
|
|
Eolus. |
похвист.26 |
„некотором общем подобии в порядке деяний российских с римскими“,27 т. е. о сходстве русской истории с римской, счел возможным провести это „подобие“ и в части мифологии. Для общей концепции Ломоносова о ценности и древности русской культуры подобное сопоставление имело большое значение, так как доказывало, что и в этом пункте, столь важном для воспитанного на античной мифологии читателя того времени, русская культура нисколько не уступает западным, а кое в чем и превосходит их.
В „Древней Российской истории“ приноровление славянской мифологии к римской претерпело некоторые, не слишком существенные, изменения. Так, например, Коляда-Юнона Рукописи № 112 превращается в „Истории“ в Януса, бога мира (стр. 333—334), а Церера-Полудница заменяется „Купалой, богом плодов земных, соответствующим Церере и Юноне“ (стр. 333). Нельзя не отметить идеологически понятного у антивоенно настроенного Ломоносова отсутствия в списках славянского эквивалента богу войны Марсу и, наоборот, наличие бога мира Коляды-Януса.
Начатая печатанием еще при жизни Ломоносова его „Древняя Российская история“ вышла в свет, как известно, лишь в 1766 г. Появление ее произвело сильнейшее впечатление в литературных кругах именно своей „мифологической“ частью: в том же году выходит в свет „Пересмешник, или Славенские сказки“ М. Д. Чулкова, где впервые „практически“ применено „славяно-российское баснословие“; в 1767 г. тот же Чулков опубликовал „Краткий мифологический лексикон“,28 в котором в ряду античных богов и героев даны и славянские; в 1768 г. М. И. Попов напечатал „Описание древнего славянского языческого баснословия, собранного из разных писателей и снабденного примечаниями“, которое потом включил в „Досуги, или собрание сочинений Михаила Попова“, изданные в 1772 г.;29 „Краткий мифологический лексикон“ в издававшемся им журнале „И то и сьо“.
Отношение „Краткого мифологического лексикона“ Чулкова к „Описанию древнего славянского языческого баснословия“ Попова уже давно обратило на себя внимание. Современники глухо говорили о каком-то недоразумении, связанном с этими работами, и даже обвиняли Чулкова в плагиате у Попова30; в самом деле, целый ряд статеек в обоих словарях совпадает почти дословно. Это обстоятельство дало Г. А. Гуковскому основание говорить об участии Чулкова в позднее вышедшей книжечке Попова.31 Однако дело объясняется отчасти тем, что оба заимствовали из одних и тех же источников, причем Попов проявлял при этом бо́льшую осторожность; впрочем, кое-что попало к Попову непосредственно от самого Чулкова или из его книги. Главными источниками Чулкова и Попова были „Древняя Российская история“ Ломоносова и „Книга историография Мавроурбина, архимандрита Рагужского“ (1722). Поскольку на Чулкова и Попова с давних времен возводится обвинение в сочинительстве новых богов для „пополнения“ славянского Олимпа,32 следует сразу сказать, что ни один бог ими не выдуман вплоть до пресловутой „богини весны Зимцерлы“: все свои материалы Чулков и Попов черпали из различных источников, не подвергая их ни малейшей критике.
„Древней Российской истории“ почти без изменений, а иногда с незначительной стилистической обработкой были перенесены в „Краткий мифологический лексикон“ Чулкова и оттуда в „Описание древнего славянского языческого баснословия“ Попова. Трех-четырех примеров будет достаточно для подтверждения этого тезиса:
|
Ломоносов: |
|
Чулков: |
|
Попов: |
|
Святовиду честию следовал Прове или , особливо у Вагрских Славян; стоял на великом и кудрявом дубе. Около его на земли расставлены до тысячи идолов с двумя, тремя лицами и больше. Перед Проном стоял олтарь для приношения жертвы (стр. 261—262). |
Прове или Проно. Славянский бог, стоял на великом и кудрявом дубе, около ево на земли расставлены были до тысячи и больше идолов о двух, о трех и больше лицах. Перед Прове стоял жертвенник, на котором закалывали христиан; текущую из них кровь прикушивал жрец, отчево уповали в нем большей силы и действия к прорицанию, и когда окончевалась жертва, тогда начинался торжественный пир с музыкой и плясанием (стр. 91). |
или Проно... Сей бог у них (померанских славян) на втором степене по Святовиде, начальном их божестве; стоял на высоком дубе, около коего расставлено было до тысячи идолов с двумя, с тремя лицами и более. Перед Проном же стоял олтарь для приношения ему жертвы (стр. 29—30). |
|
Радегаст держал на груди щит с изображенною воловою головою; в левой руке копье; на шлеме петух с распростертыми крилами... Другим идолам своим Прову или Прону, Сиве, Радегасту приносили тогда жившие славяне кровавую жертву людей християнских. По заклании оных прикушивал жрец крови, от чего уповали силы и действия к предсказанию. Когда жертва совершилась, начинался жертвенный пир с музыкой и плясанием (стр. 262—263). |
, славянский бог, держал перед грудью щит, на котором изображена была воловья голова, в левой руке копие, а на шлеме изображен был петух с распростертыми крылами; сему богу приносили славяне пленных христиан на жертву (стр. 93). |
Радегаст. Идол сих же Варягов. Держал на груди щит с изображенною воловьею головою; в левой руке копье, на шлеме петух с распростертыми крылами... Сему болвану и Прону приносили нередко в жертву христиан плененных; при заклании оных прикушивал жрец их крови: от чего надеялися получать ему больше силы и действия к предсказанию. По окончании жертвоприношения начинался жертвенный пир с музыкою и плясанием (стр. 30—31). |
||
|
Отстоянием полугодичного времени почитался , праздничный бог декабря в 24 число. Не иначе сие разуметь можно, как что зимние дни, в праздности без военного дела, без пашенной и скотопасной работы люди препровождая, уставили Коляде сей праздник. Употребительные ныне между христианами около сего времени на празднество Рождества Христова игрища, в личинах и в отменном платье, едва ли не оттуду происходят: ибо по деревням и поныне Коляду в плясках и песнях возглашают. И хотя сие приводит в сомнение иностранные народы тем же с нами обычаем, не зная Коляды ниже по имени, однако Янусом нашим древним сей идол не без вероятности назван быть может, ради разных лиц, харями развращенных (Соч., т. V, стр. 333—334). |
Коляда киевский бог, ево признавали некоторые славяне богом мира, так, как римляне своего Яна. В Киеве праздник ево совершался двадцать четвертого декабря. Также почитался он богом веселия и праздников. Славяне зделали в честь ему хари, игрища и всякие безобразия (стр. 54). |
Коляда деревням остатки находятся в играх, плясках и песнях, в которых имя его припевают (стр. 17). |
|
Купалу, богу плодов земных, соответствующему Церере и Юноне, праздновали перед началом сенокоса и жатвы в двадцать четвертый день июня. Остатки сего идолопоклонства толь твердо вкоренились, что и поныне почти во всей России ночные игры, особливо скаканье около огня, в великом употреблении; и святая Агриппина, которой тогда память празднуется, по древнему идолу проименована от простонародия Купальницею (стр. 333). |
Купало, славянский бог плодов, третий по Перуне. В начале жатвы приносили ему киевляне жертву в день праздника его, бывшего двадцать четвертого июня. Юноши и девицы собиралися в венках и поясах некоей травы или цветов, расклавши огонь, и взявшись за руки, вокруг оного плясали, перескакивая через него и припевая в песнях имя Купалово. В честь сему богу сделаны у нас качели. Празднества сего еще и ныне в некоторых местах осталися следы, а святая Агриппина, которой празднуется тогда память, проименована от простого народа Купальницею (стр. 55—56). |
, киевский бог плодов, третий по Перуне. В начале жатвы приносили ему киевляне жертвы в день праздника его, бывшего двадцать четвертого июня. Юноши и девицы собиралися в венках и препоясаниях некоея травы либо цветов; и расклавши огонь бралися за руки и вкруг снова плясали, перескакивая через него и припевая в песнях своих по часту имя Купалово. Празднества сего и по ныне в некоторых играх осталися следы (стр. 18—19). |
Оставляя на некоторое время Ломоносова, обратимся к наиболее „заподозренным“ богам Чулкова и Попова. Имена этих богов — Услад, Лада и Зимцерла. Как показано было выше, гипотезу о том, что упоминаемые в рефренах обрядовых песен имена, в том числе и Ладо, являются рудиментами прежних магических призываний богов, первым на русской почве выдвинул Ломоносов; нужно, впрочем, отметить, что это делал он, отчасти идя вслед за польскими хронистами.33
Что же касается Услада и Зимцерлы, то дело обстояло так. Чулков, а за ним и Попов заимствовали сведения об этих „богах“ из изданного при Петре перевода компилятивного труда рагузского архимандрита Мавро Орбини „Il Regno degli Slavi“ (Царство славян) (Pesaro, 1601). В русском переводе это сочинение носило очень длинное название, предлагаемое ниже в сокращенном виде: „Книга историография початия имене, славы и расширения народа славянского... Собрана из многих книг исторических чрез господина Мавроурбина, архимандрита рагужского... Переведена со Италианского на российской язык“ (СПб. 1722). Орбини в своем „Царстве славян“ собрал, не мудрствуя лукаво, обширный материал из всевозможных авторов, тщательно перечисленных им в предисловии. В русском переводе список источников обрывается посредине. Между тем, среди них есть один, представляющий интерес и для настоящей темы. Говоря о славянском язычестве, Орбини, с ссылкой на Герберштейна, называет имена кумиров, поставленных Владимиром. Сообщив о князе Святославе, Орбини писал (цитирую по переводу 1722 г.): „Сему наследник бысть сын его природный Владимир, который пешествовал отцевыми стезями, ввел паки в Киев идолослужение и болванопочитание, их же имяна: Перун с главою сребряною, Услад, Корса, Дазва, Стриба, Зимцерла, Махош, и кумиры учинены деревяные“ (стр. 74). Таким образом, мы видим, что из Орбини, или, как его называли у нас, из Мавроурбина, перешли к Чулкову и Попову сразу два „выдуманных“ бога — Услад и Зимцерла.
Поскольку Орбини все фактические сведения заимствовал из произведений предшественников, следует обратиться к источнику, указанному им и в предисловии, и на той странице подлинника, перевод которого приведен выше; в переводе, кстати, почти все библиографические ссылки оригинала опущены. Этим источником было итальянское издание „Commentarii della Moscovia composti gia latinamente per il Signor Sigismondo libero Barone in Herberstain Neiperg et Guetnhag, tradotti novamente di latino in lingua nostra vvolgare italiana (Venezia, 1550). Здесь читаем: „Questo Vuolodimero molti idoli in Chiovia ordinò: et il primo idolo di quelli era detto Peruno con il capo d’argento, et li altri membra di legno.
“ (стр. 55). Таким образом, итальянский источник Мавроурбина дает ответ только на вопрос о появлении Услада, но не Зимцерлы. Итак, Услад идет от Герберштейна. Происхождение этого бога уже давно объяснено было исследователями „Записок“ Герберштейна. В „Сборнике. издаваемом студентами Петербургского университета“ (СПб. 1857, вып. 1), И. Корелкин, И. Григорович и И. Новиков, авторы коллективного исследования, посвященного Герберштейну, сопоставляя указание „Записок“ о Владимировых кумирах с данными летописи, откуда сведения эти были извлечены, установили, что в летописной фразе „и поставя... Перуна древяна, а главу его сребряну, а ус злат“ „Герберштейн принял выражение ус злат за особого идола и составил небывалое имя Услад“ (стр. 65).
в итальянском тексте Орбини: „Volodimir... introdusse di nuovo l’Idolatria, e molti Idoli in Chiovia. De’quali il primo fù chiamato Pero col capo d’argento, egli altri erano fatti di legno ch’erano Uslad, Corsa, Dasvva, striba, Simaergla, Macosch“ (Il Regno degli Slavi, p. 92).
Оказывается, пресловутая Зимцерла явилась результатом неправильного чтения переводчиком текста Мавроурбина, а может быть, и просто опечаткой: вместо Зимаерла (Симаергла) — Зимцерла. Кто был переводчиком „Книги историографии“ Мавроурбина, документально не установлено. Сопиков (ч. III, № 5223), а за ним митрополит Евгений указывали в качестве переводчика графа Савву Владиславовича Рагузинского. П. Пекарский („Наука и литература в России при Петре Великом“, ч. II, стр. 575—577) ничего не мог прибавить по этому вопросу. Повидимому, это указание имело какие-то основания. Между тем, в недавно вышедшей брошюре итальянского слависта Артуро Крониа, излагающей судьбы итальянской славистики, сделано чрезвычайно интересное сообщение о переводчике „Царства славян“. Проф. Крониа, отметив большую популярность среди славян книги Орбини, говорит, между прочим, что она была переведена на русский язык в 1677 г. Феофаном Прокоповичем.34 Как известно, в русской литературной историографии оценка деятельности Феофана дается исключительно высокая, и поэтому каждый новый факт, говорящий о его просветительных трудах, должен быть принят с искренней благодарностью. Тем более относится это к сообщению почтенного итальянского слависта: не каждому удается перевести книгу за 4 года до рождения (Феофан р. в. 1681 г.). Ошибка Крониа произошла, повидимому, в результате того, что в русском издании „Книги историографии“ Мавроурбина имеется послесловие, написанное Феофаном Прокоповичем.
Итак, Зимцерла возникла в результате какой-то ошибки при переводе книги Орбини или при печатании ее, и приписывать „измышление“ ее Чулкову не следует.35
Чулкова можно упрекнуть лишь в том, что, отправляясь от простого упоминания о Зимцерле, он без достаточных оснований пытался конкретизировать ее мифологическую функцию: у него Зимцерла — „славенская богиня, владычествующая над началом дня“ („Краткий мифологический лексикон“, стр. 42). Дальнейшая „биография“ Зимцерлы не представляет интереса для нашей темы,36 „теогонии“ XVII—XVIII вв. вновь обратимся к Ломоносову.
Из приведенных выше материалов Ломоносова следует, что он в своих мифологических построениях очень осторожен, опирается на показания летописи, на остатки языческой обрядовой поэзии в народном обиходе и на сравнительную историю мифов. Можно, конечно, указать, что и до него делались попытки приравнять некоторые славянские божества античным, например, в сочинениях Мавроурбина,37 Татищева,38 но в записках Ломоносова налицо уже целая система. При внимательном ее рассмотрении делается очевидным хорошее знакомство Ломоносова и с народными сказками, давшими ему обильный научный материал. К ним, как и к песням, отношение Ломоносова двоякое.
Как просветитель, человек реалистического, трезвого склада ума, Ломоносов в своих печатных работах отзывался о сказках неодобрительно, считая их смехотворными и нередко безнравственными. Впрочем, в том его высказывании, которое касается данного вопроса, термин „сказка“ имеет не наше современное научное значение, а больше бытовое, распространительное — значение произведения малоценного, несерьезного. В своей „Риторике“, говоря о жанрах прозаических, Ломоносов характеризует повесть как „пространное, вымышленное, чистое или смешанное описание какого-нибудь деяния, которое содержит в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; таковы есть Барклаева Аргенида и Телемак Фенелонов. Из сего числа, — продолжает он, — выключаются скаски, которые никакого учения добрых нравов и политики не содержат и почти ничем не увеселяют, но только разве своим нескладным плетеньем на смех приводят, как скаска о Бове, и великая часть францусских романов, которые все составлены от людей неискусных и время свое тщетно препровождающих“ (Соч., т. III, стр. 207).
„опростившуюся“, захожую авантюрно-рыцарскую „Повесть о Бове королевиче“.
Но, относясь в общем отрицательно к подобным произведениям, Ломоносов, как показано было выше, умел использовать заключающийся в подлинно-народных сказках мифологический материал, видя в нем ценный исторический источник.
III. Ломоносов и пословица
Выше всего из произведений народной поэзии ставил Ломоносов пословицы. В „Риторике“ (1748), наряду с цитатами из прославленных античных и западных авторов, он приводит в качестве образцов краткой и ритмически оформленной аллегории также и пословицы, например:
И всяк спляшет,
Либо полон двор,
Либо корень вон.
(Соч., т. III, стр. 233).
Здесь же находится пословица, характеризующая антицерковные взгляды Ломоносова:
А польги нет.
(Там же).
При перепечатке „Риторики“ в „Собрании сочинений“ (1759, т. II), Ломоносов частично дает другие пословицы, чем те, которые приведены выше:
Говореное слово серебро, а умолчаное золото.
Где тонко, тут и рвется.
(Соч., т. III, примеч., стр. 216).
В другом месте (в „Риторике“ 1744 г.) приводится в пример аллегорической пословицы следующее:
По сажи гладь, хоть бей,
(Там же, стр. 50; ср. в „Риторике“ 1748 г., там же, стр. 220).
К таким же пословичным иллюстрациям следует отнести:
Доброе начало есть половина всего дела.
Доброй конец все дело венчает.
А также:
Кто хочет большим быть,
Тот должен всем служить.
(Тем же, стр. 109).
„Грамматике“ приводит Ломоносов примеры из пословиц. Так, говоря о локальном значении родительного падежа от слова „дом“, он цитирует: „Дон, Дон, а лучше дома“ (Соч., т. IV, стр. 218).
Есть у него и в рукописях пословичные записи, например:
Кто хочет много знать,
Тот должен мало спать.
(Рукоп. № 112, л. 15; Соч., т. IV, примеч., стр. 231).
А деньги дай.
(Рукоп. № 112, л. 27; Соч., т. IV, примеч.. стр. 232).
Насилу не быть милу.
(Рукоп. № 112, л. 46 об.; . Приложения, стр. 25).
Ломоносов не только приводил и цитировал пословицы, но и пропагандировал их. Так, в „Риторике“ 1744 г. он писал, что „вступление сочинить может ритор“, между прочим отправляясь „от примеров, девизов и пословиц“39 („примеры“ — это перевод латинского обозначения нравоучительного жанра „exemplum“, распространенного в новолатинской литературе). Еще выше ставит он пословицы в „Риторике“ 1748 г. Рассматривая материалы, касающиеся „украшения вообще“, Ломоносов определяет последнее так: „Украшение есть изобретенных идей пристойными и избранными речениями изображение. Состоит в чистоте штиля, в течении слова, в великолепии и силе оного“. Указав затем, что чистота штиля „зависит от основательного знания языка, от частого чтения хороших книг и от обхождения с людьми, которые говорят чисто“, и отметив, что для основательного знания языка необходимо „прилежное изучение правил грамматических“, Ломоносов добавляет, что второму (т. е. „течению слова“, его гладкости, плавности, изяществу) способствует „выбирание из книг хороших речений, пословий и пословиц“ (Соч., т. III, стр. 219). Под „пословиями“ Ломоносов, очевидно, разумел поговорки.
Чтобы покончить с дошедшими до нас данными об отношении Ломоносова к пословицам, следует указать, что в представленном им графу М. И. Воронцову списке своих сочинений он, между прочим, указывает что „собрал лутчие российские пословицы“ (Архив Академии Наук, фонд 20, опись 3, № 134, л. 45; Соч., т. IV, примеч., стр. 255). Сборник ломоносовских пословиц до нас не дошел. Однако некоторые неопределенные, не поддающиеся в настоящее время проверке сведения об этом источнике существуют. М. И. Шахнович любезно сообщил мне, что несколько лет назад покойный П. К. Симони дал ему справку, без указания, впрочем, источника, что в сборнике Ломоносова содержалось всего только 76 пословиц. Указание это едва ли можно признать правильным; стал ли бы Ломоносов ограничивать свой сборник таким незначительным числом записей? Возможно, что до Симони дошли сведения о каком-то фрагменте этой работы Ломоносова, а не о работе в целом.
— иначе он едва ли стал бы упоминать эту работу, — до нас не дошел.
Понятно предпочтение, отдававшееся Ломоносовым такому народно-поэтическому жанру, как пословица. Трезвый вывод из жизненной практики, сжатый „итог народной мудрости“, четкие, нередко сатирически направленные русские пословицы импонировали Ломоносову своей меткостью, своей бытовой применяемостью, тем, что они могли быть использованы в борьбе с невежеством, отсталостью народа, в борьбе за его просвещение, за лучшее будущее. К сожалению, повторяю, сборник пословиц, составленный Ломоносовым, до нас не дошел, и судить о том, какой отбор пословиц был сделан в нем, невозможно.
Приведенный материал показывает, как многосторонне, разнообразно и плодотворно изучал „гениальный сын великого русского народа“ поэзию, созданную этим народом.40
Необходимо отметить и то, что в своем изучении народного творчества Ломоносов черпал глубокое знание русского языка, который он с таким умением применял в своих разнообразных трудах. Эту сторону его деятельности как раз подчеркивала передовая статья „Правды“:
„У Ломоносова должны учиться и советские ученые стремлению сделать научные труды доступными самым широким массам, любви к языку народа“.
„Ленин уделял исключительное внимание чистоте русской речи, необходимости беречь ее и избегать лишней „иностранщины“. Неустанную борьбу против порчи и засорения русского языка ведет товарищ Сталин. Большевики учат рабочий класс и всех трудящихся относиться с величайшим вниманием к народному творчеству, а язык — самый ценный продукт народного творчества“.
Настоящая работа не могла, конечно, впитать весь имеющийся материал по теме „Ломоносов и фольклор“. Мне казалось правильным и своевременным поставить самую проблему. Есть писатели, которые непосредственно берут свои поэтические вдохновения и материалы из неисчерпаемой сокровищницы народного творчества. Но есть и такие, которые не черпают оттуда непосредственно ничего или заимствуют очень мало, но, тем не менее, на их художественное и научное мышление фольклор оказывает большое оплодотворяющее влияние. Мне кажется, что Ломоносов принадлежал именно к второй категории. Кроме того, нельзя упускать и отношения в целом к фольклору в каждую отдельную эпоху. На фоне пренебрежительной, полупрезрительной трактовки фольклора в первую половину XVIII в. отношение Ломоносова к народному творчеству представляется особенно ценным. Связь Ломоносова с создавшим его и горячо любимым им народом приобретает благодаря этим вновь освещенным моментам более прочный характер.
Примечания
1 Об этом см. подробнее мою книгу „Ломоносов и литературная полемика его времени“, 1750—1765. М. — Л. 1936, стр. 54—63.
2 Высказанный в этом пункте тезис Тредиаковский реализовал на практике в своем творчестве начала 1730-х годов. Ср. мою вступительную статью к сборнику „В. , М. Ломоносов, А. Сумароков 4, Л. 1935, стр. 50—51; ср. „Ломоносов и литературная полемика его времени“, стр. 19.
3 Считаю своим долгом выразить В. И. Чернышеву благодарность как за это, так и за ряд других указаний в данной работе.
4 ААН, фонд 20, опись 1, № 5, л. 14: ср. Соч., т. IV, примеч., стр. 229. Рукопись эта, на которую придется в дальнейшем неоднократно ссылаться, хранилась раньше в Рукописном отделении Библиотеки Академии Наук под № 112 и в литературе носит название „Рукопись № 112“. См. Л. Б. Модзалевский. Рукописи Ломоносова в Академии Наук СССР. Научное описание. Л. — М. 1937, стр. 8. В дальнейшем, ссылаясь на нее, я для краткости буду называть ее „Рукопись № 112“.
́льшая часть материалов из Рукописи № 112 была опубликована в приложении к исследованию А. С. Будиловича „Ломоносов как натуралист и филолог“ Пб. 1869. (В дальнейшем ссылки на эту работу будут делаться так: Будилович Приложения).
5 „Поворот“ — это ломоносовский перевод латинского versus (стих), происходящего от глагола vertere — поворачивать.
6 Рукопись № 112, л. 132 об.; Будилович. Приложения, стр. 35.
7 А. С. . Ломоносов как натуралист и филолог. СПб. 1869, стр. 118 и особенно примечание на этой же странице. Имеется в виду не дошедшая до нас третья часть курса „Красноречия“, посвященная „Стихотворству“; над ней Ломоносов работал и 1751 г.; см. его отчет за этот год (Билярский, стр. 169).
8 С. Н. . Литературное наследство М. В. Ломоносова. Литературное наследство, 1933, № 9—10, стр. 327—339.
9 Ср. Н. В. Горяев. Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896, стр. 124; А. . Этимологический словарь русского языка, т. I, М. 1910—1914, стр. 275.
10 Может быть, сюда же следует отнести в идиллии „Полидор“ стих „Мы станем пестрые веночки завивать“ (т. I, стр. 201, ст. 69).
11 „Ломоносов как натуралист и филолог“, стр. 118; ср. стр. 106—107 и другую работу А. С. Будиловича — Ломоносов как писатель, стр. 98.
12 Ю. М. Соколов
13 ГПБ: воздыхать.
14 ГПБ: покиньте.
15 ГПБ: Здесь ты.
16 ГПБ: На желтый.
17
18 ГПБ: своей.
19 ГПБ: кусты.
20 ГПБ: при деревах.
21 ГПБ: облившись вся.
22
23 Начиная с этого стиха в рукописи ГПБ пропуск.
24 Неправильная орфография, вместо „всечасно“.
25 Шиликун — по Далю (т. IV, стлб. 1433), нечистый дух, чорт; злой домовой (ударение и на предпоследнем, и на последнем слоге). Ср. Д. К. Зеленин„шуликуны“ — у русских. Lud słowiański. 1930, t. I, zeszyt 2, s. B220—B238.
26 Рукопись № 112, л. 149 об.; Будилович. Приложения, стр. 31—32 (воспроизведено не вполне точно).
27 Соч., т. V, стр. 246; ср. стр. 245.
28 „Краткий мифологический лексикон“ был издан (т. е., очевидно, напечатан) в 1767 г., а вышел в свет в 1772 г. Ср. его статью „Журнал М. Д. Чулкова „И то и сьо“ и его литературное окружение“. Сборник „XVIII век“. Вып. II (под ред. Г. А. Гуковского), стр. 134.
29 В 1789 и 1792 гг. вышел перевод книжечки Попова на французский язык (Catalogue de Russica, v. II, p. 116, №№ 1008—1009), в 1793 г. — на немецкий (ib., № 1010) Ср. также Mathew Guthrie; Dissertations sur les antiquitées de Russie. Traduites sur son ouvrage anglais. SPb. 1795.
30 См. подробнее в моей статье „Литературные энциклопедии на русском языке“ (Труды ИКДП, III, стр. 24).
31 „Русская литература XVIII в.“ Учебник для вузов, М., 1939, стр. 224.
32 Более или менее подробный свод литературы по этому вопросу см. в книге В. Б. Шкловского. Чулков и Левшин. Л. 1933, стр. 95—103. Кроме указанного там материала, следует также иметь в виду скептические замечания Карамзина в примечаниях к I т. „Истории Государства Российского“ (примеч. 205). Обвинения Чулкова и Попова в „измышлении“ богов повторяются до наших дней; ср. в указанной выше книге Г. А. Гуковского—225, и в особенности в рецензии на эту книгу, принадлежащей перу Д. Деге (Литературное обозрение, 1940, № 6, стр. 48—49).
33 Вопросу о роли польских хронистов в формировании „славянской мифологии“ XVII—XVIII вв. посвящена значительная часть известной работы V. I. Mansikka, Die Religion der Ost-Slaven (F. F. C. Vol. X, № 43. Helsinki, 1922).
34
35 В „Начертания славянской мифологии“ М. И. Касторского (СПб. 1841, стр. 179) говоря о „домовых существах, враждебных людям“, автор прибавляет: „К этому разряду я отношу и жесторову Семарглу, из которой Стрыйковский сделал Зимцерлу“. Откуда взял Касторский это указание, сказать трудно, но действительности оно не отвечает: у Матвея Стрыйковского, опиравшегося на Герберштейна, есть Услад, но нет Зимцерлы. Возможно, что Касторский перепутал Орбини со Стрыйковским.
36 „Материалы для биографии“ Зимцерлы см. у В. Б. Шкловского Hanuš. Die Wissenschaft des slawischen Mythus. Lemberg, 1842, S. 274; здесь уже говорится о „возлюбленном“ Зимцерлы — Погоде, боге голубого неба; ср. также Dr. K. Eckermann. Lehrbuch der Religions-geschichte and Mythologie der slavischen oder serbischen Stämme. Halle, 1849, B. II, S. 255.
37
38 В „Истории Российской“ специальная глава посвящена славянской мифологии.
39
40 Не представляет ли „нота“ Ломоносова „Ты взгляни на них вкось, то и побежат врось“ (Рукопись № 112, л. 23; . Приложения, стр. 23; Соч., т. IV, примеч., стр. 231) записи какой-то загадки? В существующих сборниках подобную обнаружить не удалось.